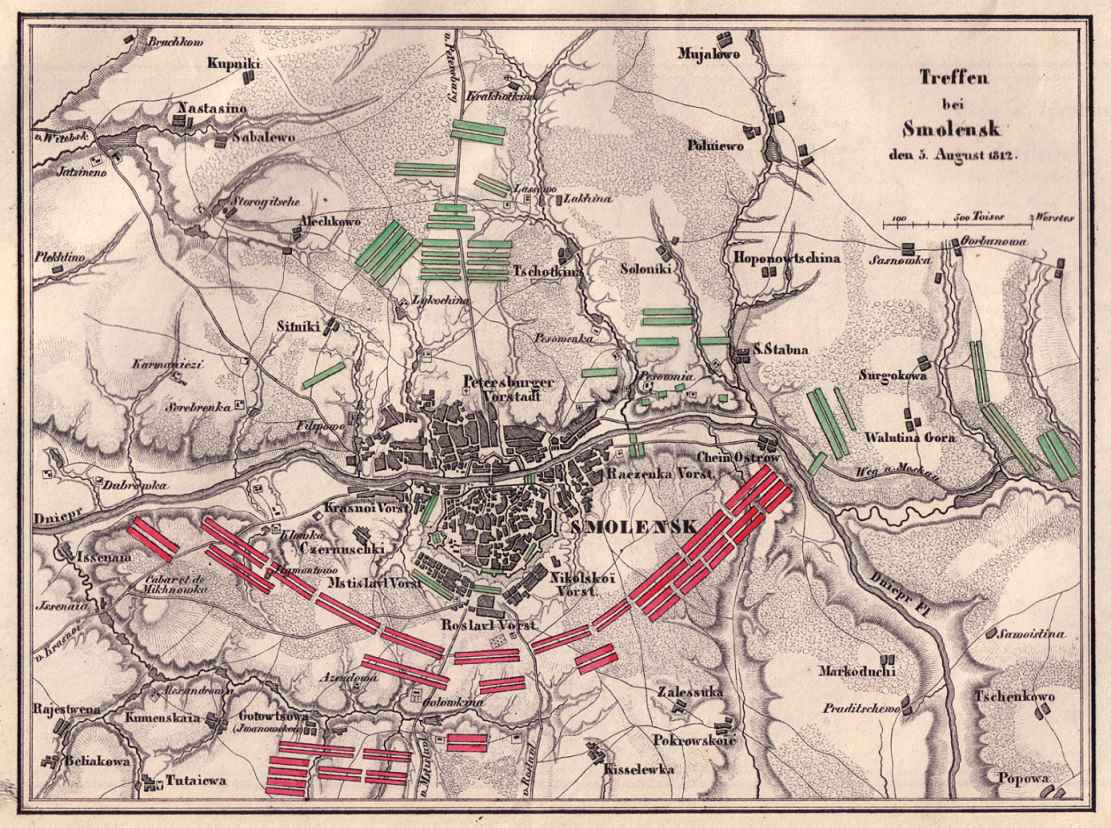2 сентября (старого стиля) 1812 г. - вступление Бонапарта в Москву.
Если сражение, данное Кутузовым на Смоленской дороге, было стратегическим риском, то попытка повторения подобного на Поклонной горе после тех результатов, которыми окончилось 26 августа, выглядела и вовсе стратегическим безумием. Ермолов вспоминает, что у него созрел тогда своеобразный план спасения столицы - отступать от Можайска на Калугу - и Бонапарт, не посмев разделить армию на две, оставит Москву в покое. Но вероятно, сам автор побоялся оригинальности своего замысла - ниже он добавляет, что план не был никому доложен. Клаузевиц тоже упоминает подобную идею, но не считает его позитивной - во-первых, она не была обезпечена расположением воинских складов, во-вторых создавала больше проблем, чем решала. Про военный совет в Филях, окончательно решивший оставить Москву без боя, пишут разное. По свидетельству Ермолова получается так: Барклай, Уваров, Дохтуров, Остерман и Раевский - за отступление, а Коновницын, Беннингсен - и сам автор записок - за сражение. Кутузов по этой версии лишь с плохо скрываемым удовольствием присоединился к мнению большинства. У Тарле все наоборот - большинство совета горой - за сражение, и главнокомандующий лишь единоличной властью приказывает отступать. Остается предполагать, что академик использовал некие источники, неизвестные участнику событий. В любом случае, отдать приказ на сдачу древней столицы было нелегко - насколько он был дик и невозможен для сознания тогдашнего русского воинства, хорошо иллюстрирует анекдот, приводимый в книге Тарле:
Раздражение командующего арьергардом несложно понять: он получил из ставки иезуитский приказ (сочиненный вероятно Ермоловым) "почтить древнюю столицу видимостью сражения". Вдоволь наругавшись на проклятую бумагу, Милорадович предпочел вступить в переговоры с Мюратом. Неаполитанский король разговаривать с простым русским графом посчитал ниже своего достоинства, но прислал генерала Себастиани, с которым быстро удалось договориться. В обмен на обещание не устраивать уличных боев французы обязались не препятствовать проходу русского арьергарда через Москву. Уже на выходе из города Милорадович поехал попенять своему визави, что французская кавалерия слишком близко следовала за русской. Тот ехидно заметил, что это русские ползли через свою столицу на неприлично низкой скорости (на самом деле в этом сложно винить русскую армию - так как город решились покинуть практически все, кто мог на чем-то уехать, то выезды из него стали труднопроходимы). Клаузевиц, бывший в свите русского командующего, замечает, что при проходе через город уже кое-где что-то горело (он относит эти пожары к обычной тактике казаков). Нашему пруссаку в этот день повезло - из рядов неприятеля он услышал команду на родном языке - и подъехал осведомиться, кто перед ним. Это оказался полк брандербургских улан. Через офицера-земляка сей затерявшийся в пространствах России немец смог передать весточку родным.
Оставившая Москву армия двинулась сперва по Рязанской дороге, с нее перешла на Тульскую, а днем позже - на Калужскую. Это замысловатое движение, позволившее совершенно потеряться из виду неприятеля, получило название Тарутинского маневра. Клаузевиц не понимает, что гениального находят в таком повороте другие авторы - для него он в принципе правилен, но тривиален. Впрочем, тут же наш теоретик делает два глубокомысленных замечания: 1-е: военная наука вообще достаточно очевидна; сложность войны состоит не в нахождении верного решения - а в претворении его в жизнь в ситуации, когда все против тебя; и 2-е: в принципе было все равно куда отступать - на Владимир, на Рязань - или на Калугу. Бонапарат не имел уже сил для организации серьезного наступления ни в одном из этих направлений. Но русское командование под влиянием бородинского побоища преувеличивало силы противника раза в полтора - и продолжало его всерьез побаиваться.
А уже на следующий день после оставления нашей армией Москва запылала. Катастрофа такого масштаба - причем совершенно нетипичная для войн достаточно респектабельного XIX века - сама собой просится в решающие события кампании. Логика тут проста: зимовка в разоренной пожаром Москве стала невозможна - и Бонапарт отдал приказ об отступлении, сгубившем армию. Но вечно скептический Клаузевиц видит в такой постановке вопроса преувеличение. Признавая, что пожар был для французской армии событием крайне неприятным, наш мемуарист отказывается придавать ему судьбоносное значение. По его мнению, расположение Grande Armee в Москве на зимние квартиры было невозможно, даже если бы город и остался целехоньким. Армия, разтерявшая по пути к сердцу враждебной страны 80% своего состава, нуждалась в первую очередь в подкреплениях - а их в Москве взять было неоткуда. Альтернатива отступлению на запад была только одна - немедленный мир. И - надо сказать - такая перспектива не выглядела в те дни совершенно нереальной. Многие в русском лагере (даже доселе достаточно спокойно оценивавший обстановку Барклай) под впечатлением гибели Москвы пребывали в жестоком унынии - и не считали мир худшим из возможных исходов. Как виделись тогда вещи князю Смоленскому, мы, вероятно, никогда не узнаем - его способность говорить одним одно, а другим - другое, была непревзойденной. Но к счастью, единственный человек, который собственно и мог заключить мир - к кому и направлял Бонапарт своих посланцев - Император Александр - и слышать о этом не хотел. И причиной тому были отнюдь не тупая самоуверенность - и не замысел уйти в сибирскую келлию на 13 лет раньше срока. Клаузевиц пишет, что еще за несколько дней до Бородина в Петербурге был утвержден план наступления тремя фланговыми армиями на коммуникации Grande Armee, делавший безполезными все возможные успехи Бонапарта на московском направлении. Эпические события в районе древней столицы могли иметь любой исход - судьба войны им уже не определялась. И пусть - по саркастическому замечанию того же Клаузевица - ни одна из петербургских диспозиций так и не была выполнена - то, ради чего они писались, отменить было уже невозможно. Бонапарт, не пославший в дело гвардию в день Бородина, оказался значительно дальновиднее, чем подумали тогда о нем маршалы - гвардия еще сильно ему понадобится, чтобы не дать захлопнуться ловушке, заботливо разставленной на Березине. Не только прежде наступления зимы - прежде наступления осени - война уже была решена самими свойствами русских пространств, в которые так опрометчиво нырнула с головой Grande Armee - и выдержкой одного человека - а именно того, которого гораздо реже других называют в числе победителей Бонапарта - Государя Александра Благословенного.
Но разве могло народное сердце хоть на секунду принять такое сухое - и напрочь лишенное романтизма - объяснение одной из любимейших своих загадок? Разве мы не умели каждую большую беду, постигшую нас, претворять в поэзию?
Если сражение, данное Кутузовым на Смоленской дороге, было стратегическим риском, то попытка повторения подобного на Поклонной горе после тех результатов, которыми окончилось 26 августа, выглядела и вовсе стратегическим безумием. Ермолов вспоминает, что у него созрел тогда своеобразный план спасения столицы - отступать от Можайска на Калугу - и Бонапарт, не посмев разделить армию на две, оставит Москву в покое. Но вероятно, сам автор побоялся оригинальности своего замысла - ниже он добавляет, что план не был никому доложен. Клаузевиц тоже упоминает подобную идею, но не считает его позитивной - во-первых, она не была обезпечена расположением воинских складов, во-вторых создавала больше проблем, чем решала. Про военный совет в Филях, окончательно решивший оставить Москву без боя, пишут разное. По свидетельству Ермолова получается так: Барклай, Уваров, Дохтуров, Остерман и Раевский - за отступление, а Коновницын, Беннингсен - и сам автор записок - за сражение. Кутузов по этой версии лишь с плохо скрываемым удовольствием присоединился к мнению большинства. У Тарле все наоборот - большинство совета горой - за сражение, и главнокомандующий лишь единоличной властью приказывает отступать. Остается предполагать, что академик использовал некие источники, неизвестные участнику событий. В любом случае, отдать приказ на сдачу древней столицы было нелегко - насколько он был дик и невозможен для сознания тогдашнего русского воинства, хорошо иллюстрирует анекдот, приводимый в книге Тарле:
Два батальона московского гарнизона, вливаясь уже в самом городе в отступающую мимо Кремля главную армию, уходили с музыкой. «Какая каналья велела вам, чтобы играла музыка?» - закричал Милорадович командиру гарнизона генерал-лейтенанту Брозину. Брозин ответил, что по уставу Петра Великого, когда гарнизон оставляет крепость, то играет музыка. «А где написано в уставе Петра Великого о сдаче Москвы? - крикнул Милорадович. - Извольте велеть замолчать музыке!»
Раздражение командующего арьергардом несложно понять: он получил из ставки иезуитский приказ (сочиненный вероятно Ермоловым) "почтить древнюю столицу видимостью сражения". Вдоволь наругавшись на проклятую бумагу, Милорадович предпочел вступить в переговоры с Мюратом. Неаполитанский король разговаривать с простым русским графом посчитал ниже своего достоинства, но прислал генерала Себастиани, с которым быстро удалось договориться. В обмен на обещание не устраивать уличных боев французы обязались не препятствовать проходу русского арьергарда через Москву. Уже на выходе из города Милорадович поехал попенять своему визави, что французская кавалерия слишком близко следовала за русской. Тот ехидно заметил, что это русские ползли через свою столицу на неприлично низкой скорости (на самом деле в этом сложно винить русскую армию - так как город решились покинуть практически все, кто мог на чем-то уехать, то выезды из него стали труднопроходимы). Клаузевиц, бывший в свите русского командующего, замечает, что при проходе через город уже кое-где что-то горело (он относит эти пожары к обычной тактике казаков). Нашему пруссаку в этот день повезло - из рядов неприятеля он услышал команду на родном языке - и подъехал осведомиться, кто перед ним. Это оказался полк брандербургских улан. Через офицера-земляка сей затерявшийся в пространствах России немец смог передать весточку родным.
Оставившая Москву армия двинулась сперва по Рязанской дороге, с нее перешла на Тульскую, а днем позже - на Калужскую. Это замысловатое движение, позволившее совершенно потеряться из виду неприятеля, получило название Тарутинского маневра. Клаузевиц не понимает, что гениального находят в таком повороте другие авторы - для него он в принципе правилен, но тривиален. Впрочем, тут же наш теоретик делает два глубокомысленных замечания: 1-е: военная наука вообще достаточно очевидна; сложность войны состоит не в нахождении верного решения - а в претворении его в жизнь в ситуации, когда все против тебя; и 2-е: в принципе было все равно куда отступать - на Владимир, на Рязань - или на Калугу. Бонапарат не имел уже сил для организации серьезного наступления ни в одном из этих направлений. Но русское командование под влиянием бородинского побоища преувеличивало силы противника раза в полтора - и продолжало его всерьез побаиваться.
А уже на следующий день после оставления нашей армией Москва запылала. Катастрофа такого масштаба - причем совершенно нетипичная для войн достаточно респектабельного XIX века - сама собой просится в решающие события кампании. Логика тут проста: зимовка в разоренной пожаром Москве стала невозможна - и Бонапарт отдал приказ об отступлении, сгубившем армию. Но вечно скептический Клаузевиц видит в такой постановке вопроса преувеличение. Признавая, что пожар был для французской армии событием крайне неприятным, наш мемуарист отказывается придавать ему судьбоносное значение. По его мнению, расположение Grande Armee в Москве на зимние квартиры было невозможно, даже если бы город и остался целехоньким. Армия, разтерявшая по пути к сердцу враждебной страны 80% своего состава, нуждалась в первую очередь в подкреплениях - а их в Москве взять было неоткуда. Альтернатива отступлению на запад была только одна - немедленный мир. И - надо сказать - такая перспектива не выглядела в те дни совершенно нереальной. Многие в русском лагере (даже доселе достаточно спокойно оценивавший обстановку Барклай) под впечатлением гибели Москвы пребывали в жестоком унынии - и не считали мир худшим из возможных исходов. Как виделись тогда вещи князю Смоленскому, мы, вероятно, никогда не узнаем - его способность говорить одним одно, а другим - другое, была непревзойденной. Но к счастью, единственный человек, который собственно и мог заключить мир - к кому и направлял Бонапарт своих посланцев - Император Александр - и слышать о этом не хотел. И причиной тому были отнюдь не тупая самоуверенность - и не замысел уйти в сибирскую келлию на 13 лет раньше срока. Клаузевиц пишет, что еще за несколько дней до Бородина в Петербурге был утвержден план наступления тремя фланговыми армиями на коммуникации Grande Armee, делавший безполезными все возможные успехи Бонапарта на московском направлении. Эпические события в районе древней столицы могли иметь любой исход - судьба войны им уже не определялась. И пусть - по саркастическому замечанию того же Клаузевица - ни одна из петербургских диспозиций так и не была выполнена - то, ради чего они писались, отменить было уже невозможно. Бонапарт, не пославший в дело гвардию в день Бородина, оказался значительно дальновиднее, чем подумали тогда о нем маршалы - гвардия еще сильно ему понадобится, чтобы не дать захлопнуться ловушке, заботливо разставленной на Березине. Не только прежде наступления зимы - прежде наступления осени - война уже была решена самими свойствами русских пространств, в которые так опрометчиво нырнула с головой Grande Armee - и выдержкой одного человека - а именно того, которого гораздо реже других называют в числе победителей Бонапарта - Государя Александра Благословенного.
Но разве могло народное сердце хоть на секунду принять такое сухое - и напрочь лишенное романтизма - объяснение одной из любимейших своих загадок? Разве мы не умели каждую большую беду, постигшую нас, претворять в поэзию?
...Полина показалась в конце аллеи, мы пошли к ней навстречу. Она приближалась скорыми шагами. Бледность ее меня поразила.
«Москва взята», — сказала она мне, не отвечая на поклон Сеникура; сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Сеникур молчал, потупя глаза. «Благородные, просвещенные французы, — продолжала она голосом, дрожащим от негодования, — ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли Москву — Москва горит уже два дни». — «Что вы говорите, — закричал Сеникур, — не может быть». — «Дождитесь ночи, — отвечала она сухо, — может быть, увидите зарево». — «Боже мой! Он погиб, — сказал Сеникур; как, разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону негде, нечем будет держаться, что он принужден будет скорее отступить сквозь разоренную, опустелую сторону при приближении зимы с войском расстроенным и недовольным! И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад! нет, нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное, варварское великодушие! Теперь все решено: ваше отечество вышло из опасности; но что будет с нами, что будет с нашим императором...»
Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться. «Неужели, — сказала она, — Сеникур прав и пожар Москвы наших рук дело? Если так... О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу».
Глаза ее так и блистали, голос так и звенел...
Пушкин. Рославлев. 1831 г.